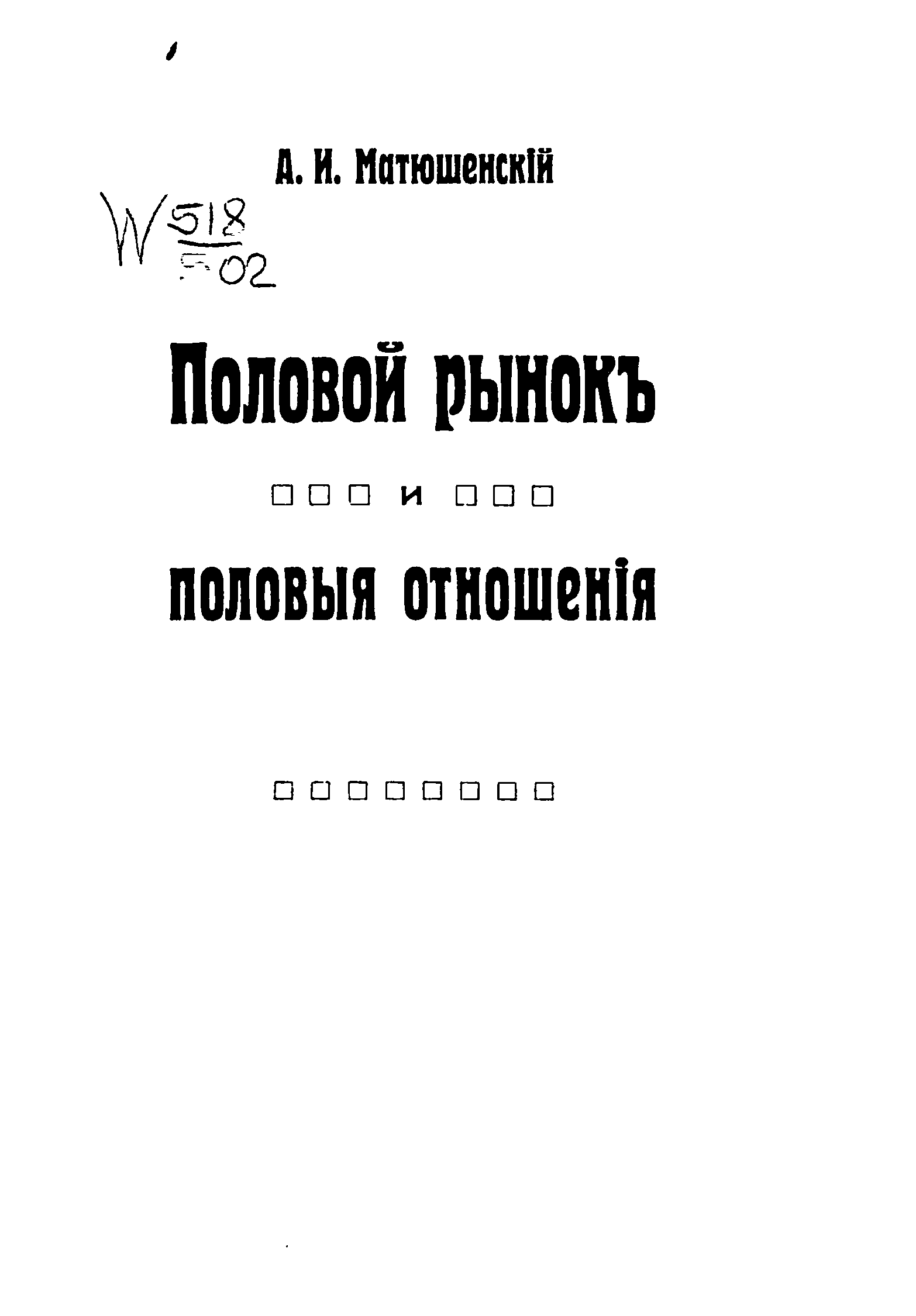Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман о Батыевом нашествии. На обложке: фрагмент диорамы «Оборона Старой Рязани в 1237 г.»
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Николай Александрович Баранов»:

![Пещера саламандры [СИ] - Николай Александрович Баранов](/uploads/posts/books/13831/13831.jpg)
![Время умирать. Рязань, год 1237 [СИ] - Николай Александрович Баранов](/uploads/posts/books/13830/13830.jpg)